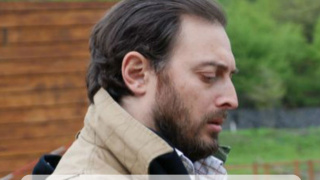Заново зачаровывая международное: магическая политика и где её найти
В своей недавней статье я сетую на отсутствие «волшебства» в дисциплине международных отношений. Хотя нелегко найти место для удивления в дисциплине, которая исторически стремилась избавиться от него, сетование, как критический феминистский метод, позволяет мне выявить творческую основу и развивать её совместно с существующими учёными. Есть люди, которые разделяют моё любопытство и следуют за ним разными путями. В дополнение к признанию несостоятельности существующих рамок в борьбе с курьёзами, которые превосходят их, сетование активизирует эмоциональное стремление к альтернативному воображению. Политическая работа по оплакиванию требует, чтобы мы сделали паузу и обратили более пристальное внимание на структуру и контуры того самого мира (миров), о котором мы пишем. Таким образом, пауза становится политическим моментом для того, чтобы заметить и восстановить отношения, составляющие международное. Как политические акты сетования, паузы и замечания пропадают в основных теориях мировой политики? Какие миры мы можем потерять или уже потеряли при отсутствии такого воображения? И как мы можем их вернуть?
Я вкладываю внимание именно в воображение альтернативных структур, настроенных на восприятие эмоциональных отношений, которые (не) делают международное, как саму суть политики. Моя докторская работа посвящена переписыванию «международного» путём извлечения эмоционально-реляционных и магических идей из литературного жанра магического реализма. Я читаю романы, написанные в разные географические и временные периоды, и пишу тематические эссе о том, каким образом эмоциональная магия, которой изобилует такое творчество, бросает вызов и трансформирует само понятие политического. Я должна признать, что, хотя мне потребовалось почти три года, чтобы составить это аккуратное краткое изложение, процесс был восхитительно и удручающе беспорядочным. Причина, по которой важно признать это, заключается не в том, чтобы предостерегать от моей работы. Я утверждаю, что это непрерывный процесс обучения: вместо того, чтобы начинать с какой-либо уверенной в себе отправной точки, я пытаюсь узнать, что я делаю, делая это.
Политически важно признать незнакомость, чтобы заметить, (переосмыслить) представить и задать вопросы даже о самых, казалось бы, знакомых вещах. Как жанр мировой литературы магический реализм настаивает на поиске волшебного в обыденном и, поступая таким образом, приглашает нас переосмыслить политическое через эмоционально-реляционный опыт тех, кто его населяет. Коды магического в таком изложении не являются вспомогательными по отношению к кодам реального, а скорее освещают их и делают терпимыми. В таком случае волшебное — это не прыжок в сторону от реальности, а улучшение её эмоциональных отношений. В моём исследовании люди и нечто большее, чем люди, сопротивляются ограничениям международного, а также создают ощутимые альтернативные контуры международного. Призраки возвращаются, чтобы преследовать диктаторов, строящих зеркальные дворцы для мёртвых («Просветление зелёного дерева»), насилие, наносимое по спинам рабов, принимает форму деревьев черноплодной рябины («Возлюбленная»), волшебные двери переносят беженцев с войны в неизвестные страны («Выход на Запад»), дети, рождённые с ударом полуночи, получают магические способности и телепатически общаются о будущем новой независимой страны («Дети полуночи»), а заключённые дают поэтические названия лагерям и устраивают торжества с иллюзорным оркестром, обедают за подробным описанием праздничных блюд («Длинный морской лепесток»). Именно это магическое/политическое заклинание эмоционально-зависимых людей — настаивать на воображении обнадёживающих способов выживания и даже процветания в условиях уничтожения — возлагает на нас обязанность переосмыслить способы написания и размышления о насилии и надежде в глобальной политике.
Именно замечая привязанности, которые даже в разгар разрушения превращают ощущаемое настоящее во что-то пригодное для жизни и потенциально лучшее, по крайней мере, для предмета привязанности, мы можем раскрыть наше воображение о политике. Магический реализм, как постколониальная форма письма, настаивает на том, чтобы рассматривать интимные места и отношения как глобальные. Это открывает политическое, включая амбивалентные моменты, фигуры и позиции, которые часто отсутствуют в макротеориях международного. В своей Нобелевской лекции Габриэль Гарсиа Маркес призвал к пересмотру западных литературных стандартов, которые часто рассматривают магическую реалистическую фантастику как ещё одну форму фантастической литературы. Маркес и другие писатели называют этот жанр своим домом. То, что кому-то может показаться фантастическим, является единственным надёжным средством рассказать о том, что часто является невыносимой, необъятной и необузданной реальностью, для тех, кто пережил это и пытается пережить через это.
Для меня именно эта настойчивость в воображении: в надежде, любви и способах продолжать жить посреди насилия, благодаря настойчивости в эмоционально-реляционном пересказе реальности, делает магический реализм политически важным. Позволяя своим персонажам творчески действовать, преодолевая трудности, вместо того, чтобы требовать от них героических действий по преодолению политических кризисов, — вот что делает такое произведение политически щедрым. Это ставит императивом переделывать, а не отбрасывать мир, который не служит их потребностям и целям, стремясь к эмоциональным отношениям, составляющим политику. То, как мы пишем о мире, представляет собой глубоко политический выбор; выбор, который требует сближения с интересующими нас мирами, прежде чем мы сможем подвергнуть их сомнению. Вместо того чтобы заканчивать историю упадком и отказом от надежды, такие истории заставляют нас задуматься о том, как совместное выживание может помочь нам ориентироваться в неспокойных водах.
За последнее десятилетие наблюдался мягкий, устойчивый поток нарративных исследований в области международных отношений, проводимых учёными, которые признают ограничения, налагаемые дисциплинарными формами письма, на возможности того, о чём мы можем думать и мечтать как о политическом. Это привело к обращению к автобиографическим, беллетристическим, поэтическим, автоэтнографическим и другим повествовательным формам письма, значительно расширило грамматику дисциплины, включив в неё истории как политическую форму знания. Среди прочего, я в глубоком долгу перед работой Дженни Эдкинс (2013) о рассказывании историй в международных отношениях. Её вопрос: «Что делают истории такого, чего не могут другие формы письма?» — это любопытство, которое я храню в качестве закладки в своём творчестве (и жизни), чтобы отметить тревоги, возможности, а также ответственность и издержки профессии рассказчика, как для дисциплины, так и за её пределами.
Истории, как форма знания, часто рассматриваются как совершенно неприемлемые или, несомненно, великодушные в рамках дисциплинарных дебатов. Однако опыт работы с историями — это опыт развития политической близости с сомнением. Вместо того чтобы рассматривать истории как естественно склонные к более мягкой политике, моё исследование отражает политику повествований и наши собственные отправные точки. Вместо того чтобы спешить разрешить или объяснить эмоционально-реляционные проблемы, которые изводят и усложняют восприятие политики в этих романах, я часто позволяю своему писательскому труду оставаться под покровом сомнений и запекаться в нём. Таким образом, моё творчество такое же неуверенное, сложное и противоречивое, как человеческие и более чем человеческие сюжеты в романах, которые я читаю, и предлагает альтернативное понимание политики — такое, где можно оставаться в сомнении и писать с ним.
Признание того, что истории так же уязвимы для эксплуатации, как и другие методы исследования, не является аргументом против обращения к ним. По сути, это приглашение тщательно обдумать, какие истории мы хотим рассказать о международном. Критически настроенные учёные сетовали на то, что неустанный поиск причинно-следственных связей в международных отношениях настолько силён, что ничто не остаётся живым. Учёные-феминистки в этой дисциплине и за её пределами справедливо призывали к политике медленного изучения, которое позволяет нам выйти за рамки институциональных ожиданий и временных рамок, хотя бы для того, чтобы впустить немного воздуха в лёгкие наших тел и нашего творчества. Культивирование пространства для исследований, которое создаёт условия для выдоха для исследователя и субъектов исследования. Пространство признаёт, что творчество часто одновременно питательно и изнуряюще и требует паузы в разгар, а иногда и в качестве противоядия от спешки.
Взаимодействие с историями побуждает нас рассматривать возбуждение как ценную политическую цель. Работа с художественной литературой, действительно волшебной реалистической литературой, требует от нас, по крайней мере, рассмотрения возможности того, что истории могут воздействовать на нас иначе, чем политические аргументы. Это побуждает нас признать, что, возможно, единственный способ ответить на самые серьёзные вопросы, которые формируют нашу дисциплину и бросают ей вызов, — это обратить внимание на конкретные моменты, места и отношения, где политическое становится таким непосредственным, таким специфичным, что щиплет. Вместо того чтобы думать о том, как мы можем использовать художественную литературу или другие формы письма для международных отношений, возможно, более творческим проектом было бы рассмотреть, как такое написание нарушает и расширяет наш политический словарь. Расставить приоритеты в эмоциональных отношениях — это способ расставить приоритеты в (повторной) артикуляции политики как жизненного проекта и дисциплины как пространства для проведения такой политики.
На недавней международной конференции, во время дискуссии по литературным международным отношениям, кто-то задал мне блестящий вопрос: «Чего мы хотим от романов как мыслители политики, что мы надеемся там найти?» Я нашёл её любопытство, сформулированное в «грамматике желаний», гораздо более порождающим, чем более канонический вопрос: «Что художественная литература может сделать для международных отношений?» Вопрос, который стремится поставить художественную литературу, да и вообще всё воображение, на службу дисциплине. Я пришла к магической реалистической фантастике не со списком исследовательских вопросов. Это было глубокое чувство разочарования в том, как написание статей о политике в рамках дисциплины международных отношений устанавливает серьёзные ограничения для представления самих масштабов и природы политического, и желание представить всё иначе, что подтолкнуло меня к этому.
Я часто испытывала непреодолимое желание определить своё исследование тем, чем оно не является. Отличать вымысел от лжи, магию от обмана, удивление от эскапизма. В то время как требования обосновать намерения нашего исследования приветствуются феминистками как способ сделать нашу собственную работу более чёткой, также крайне важно позволить нашему исследованию найти альтернативные отправные точки, которые не выходят и, возможно, не могут возникнуть в рамках существующих рамок грамматики дисциплины. У художественной литературы есть свои собственные потребности, которые часто отличаются от дисциплинарных подходов к решению проблем и более щедры на них. Если направление нашего внимания на эмоциональные отношения, из которых состоит мир(ы), — это то, что угрожает фундаментальным итерациям политики, то на этот риск стоит пойти, хотя бы для того, чтобы спросить: что произошло бы, если бы мы это сделали?
Исследовательские вопросы могут появляться за пределами обычных мест нашего исследования, иногда там, где мы их меньше всего ожидаем. В моём исследовании вопросы возникают как стремления, а методы предполагают подмечание и внимание к многочисленным стремлениям в романах, которые я читаю — к дому(-ам), отношениям(-ам) и, что особенно важно, к жизни — как к эмоционально-реляционным заклинаниям, которые вызывают в воображении магические повторения политического. Не часто мы думаем о дисциплинах как о путях удовлетворения наших желаний. Желания, в отличие от вопросов, нуждаются не в фиксированных ответах, а скорее в предварительных. Есть раритеты, которые нуждаются в постоянном общении, постоянном уходе и возможности заново увлечься тем, что мы понимаем как политическое.
Я не пытаюсь ничего решить с помощью своих исследований художественной литературы, но пытаюсь представить альтернативные способы заселения и жизни (в) политическом мире. Это не означает, что в мире нет проблем, требующих решения. Это означает, что должно быть возможно представить себе жизнь бок о бок, а иногда даже в условиях сопротивления решению, происходящему вокруг нас. Настаивать на том, чтобы остановиться и прислушаться к жужжанию пчёл в мире в кубе солнечного света, иногда может быть самым радикальным политическим актом из всех возможных.