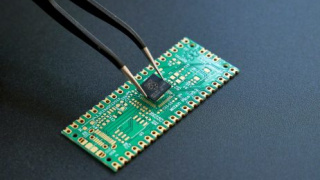Киссинджер, я и ложь хозяина
Я ушёл из New York Times в 1979 году после многих хороших статей и некоторых не очень хороших времён, чтобы написать книгу «Цена власти» о Генри Киссинджере и его годах в качестве советника по национальной безопасности и государственного секретаря, манипулирующего и лицемерного.
Я опросил не менее тысячи чиновников, включая десятки тех, кто работал на Генри, поскольку он был известен всем, и книга на 698 страницах была опубликована в 1983 году. Книга имела успех с точки зрения продаж и рекламы, и привела к выступлениям в течение года в колледжах и университетах по всей Америке. Но книга мало что сделала для того, чтобы ослабить сильную любовь прессы ко всему, что связано с Генри.
Некрологи, последовавшие за его смертью на прошлой неделе, были такими же подобострастными, как и репортажи о том, как он лгал и манипулировал на своём пути к славе и находясь на своём посту. Реальность такова, что его роль в отваживании России и Китая от поддержки Северного Вьетнама в разгар этой ужасной войны часто переоценивалась. Он был посредником в реализации дипломатических реалий, которые первоначально были обнародованы президентом Ричардом Никсоном, чья публичная неловкость маскировала проницательное понимание готовности великих держав предать даже самых близких союзников. Если хотите получить самое глубокое представление о самых смертоносных интригах Никсона и Киссинджера, забудьте о моей книге. В 2013 году Гэри Басс, профессор Принстонского университета и бывший репортёр The Economist, опубликовал «Кровавую телеграмму» — целенаправленный отчёт о массовом убийстве, которое Никсон и Киссинджер сделали неизбежным в 1971 году: то, что тогда было известно как Восточный Пакистан, получило лишь малейшее отражение в международных средствах массовой информации.
Мои отношения с Киссинджером начались только в начале 1972 года, когда Эйб Розенталь, исполнительный редактор Times, попросил меня присоединиться к сотрудникам газеты в Вашингтоне и написать то, что я хотел узнать как репортёр-расследователь о войне во Вьетнаме: с условием, что мне лучше быть чертовски уверенным в своей правоте. К тому времени я получил множество премий, включая Пулитцеровскую, за репортаж о резне в Майлае во Вьетнаме, и опубликовал две книги, чего было достаточно, чтобы получить работу в лучшем месте в мире для писателя: репортёром The New Yorker. Но предложение Розенталя и моя ненависть к войне заставили меня уйти из журнала ради ежедневной работы в газете.
Когда я пришёл в Вашингтонское бюро весной 1972 года, мой стол находился прямо напротив главного репортёра газеты по внешней политике — опытного журналиста, который был мастером написания связных историй для первой полосы перед самым выпуском. Я узнал, что около 5 часов вечера в те дни, когда нужно было писать статьи о войне или разоружении — рулевая рубка Киссинджера, — секретарша начальника бюро сообщала моему коллеге, что «Генри» разговаривает по телефону с начальником бюро и скоро позвонит ему.
Конечно же, поступал звонок, и мой коллега лихорадочно делал заметки, а затем составлял связную статью, отражающую то, что ему сказали, что неизменно станет главной статьёй в утренней газете на следующий день. Понаблюдав за этим неделю или две, я спросил репортёра, проверял ли он когда-нибудь то, что рассказывал ему Киссинджер — в историях, которые, как оказалось, никогда не упоминали Киссинджера по имени, но цитировали высокопоставленных чиновников администрации Никсона, — звоня и обсуждая предысторию с госсекретарём Уильямом Роджерсом или министром обороны Мелвином Лэйрдом.
«Конечно, нет, — сказал мне мой коллега. — Если бы я это сделал, Генри больше не имел бы с нами дела».
Пожалуйста, поймите — я ничего не выдумываю.
Киссинджер, который не делал публичных замечаний по поводу моих работ о резне в Майлае и её сокрытии, внезапно пригласил меня в Белый дом для приватной беседы. Я только что вернулся из репортёрской поездки в Северный Вьетнам для Times. Я был вторым ведущим американским репортёром за шесть лет, которому Ханой выдал визу, — и мы должны были обсудить это. Я писал о мнении Северного Вьетнама о секретных мирных переговорах, которые Киссинджер вёл с вьетнамцами в Париже, но дело было не в этом. Я решил, что он хотел меня задобрить. Поскольку в Times внезапно воцарилась полная неразбериха, не было никаких сомнений в том, что я представлял особый интерес.
Он спросил меня о моих впечатлениях от Северного Вьетнама, которые я увидел во время трёхнедельного визита в Ханой и другие места на Севере. Меня возили в районы, подвергшиеся массированным американским бомбардировкам, и я стал свидетелем удивительной способности Севера восстанавливать разбомбленные железнодорожные линии в течение нескольких часов после нападения. Дополнительные рельсы и оборудование, необходимое для ремонта, были спрятаны через каждые несколько сотен ярдов вдоль путей от Ханоя до главной гавани Хайфона.
Он спросил о моральном состоянии жителей Ханоя. Я сказал ему, что не видел никаких признаков паники, страха или отчаяния во время моих многочисленных неохраняемых (как я полагал) прогулок по городу. Фактически, каждое утро группа школьников, направлявшихся на занятия, которые видели меня, когда я только приехал, проходила мимо моего отеля в центре Ханоя в одно и то же время — я взял за правило тогда находиться на улице — и бодро говорила мне «Доброе утро, сэр!» по-английски. Но я всегда осознавал, что нахожусь на вражеской территории.
Эти школьники и другие мои рассказы побудили Киссинджера вызвать видного бывшего посла, который был его старшим помощником по вопросам, связанным с войной, и сказать ему при мне с очевидным притворным гневом: «Этот парень даёт мне больше информации о моральном состоянии на Севере, чем я получаю от ЦРУ». Я помню, как подумал: «Неужели это всё? Это всё, на что он способен? Неужели этот парень действительно думает, что такой очевидной лестью сможет расположить меня к себе?»
В течение следующих нескольких лет Киссинджер продолжал отвечать на мои звонки с условием, что все наши разговоры должны быть, как он однажды сказал, «не для протокола». Мне не разрешили называть его по имени, и годы спустя я узнал, что был единственным во время наших телефонных разговоров, кто играл по правилам. Учёный, проводящий исследование о Киссинджере, сказал мне, что мои якобы личные беседы с этим человеком расшивровывались в течение нескольких часов — он получил копии в соответствии с Законом о свободе информации — и предоставлялись в распоряжение Киссинджера или его давнего помощника, генерала армии Александра Хейга.
Розенталь отстранил меня от участия во вьетнамской войне в конце 1972 года, несмотря на мои горячие возражения, когда разразился Уотергейтский скандал — и Times подверглась критике из-за репортажей Боба Вудворда и Карла Бернстайна из Washington Post. Я снова поймал себя на том, что пишу репортаж о Киссинджере, чья готовность сделать всё, чтобы сохранить благосклонность Никсона, не знала границ.
Весной 1973 года высокопоставленный сотрудник ФБР, который вскоре должен был уйти в отставку и который явно разделял мою очевидную неприязнь к Киссинджеру, пригласил меня на ланч в заведение неподалёку от штаб-квартиры ФБР, которое было излюбленным местом высокопоставленных сотрудников бюро. Это было поистине удивительное приглашение, но в те дни не было ничего, кроме таких моментов, как крах администрации Никсона, и я отправился в путь. У нас была приятная беседа о причудах Вашингтона, и когда обед закончился, он попросил меня задержаться на минуту-другую, прежде чем покинуть ресторан: и я нашёл пакет на его стуле.
В нём содержались шестнадцать строго засекреченных разрешений ФБР на прослушивание телефонных разговоров: все, кроме двух, были подписаны Киссинджером. Эти прослушивания касались нескольких репортёров, примерно десяти сотрудников собственной службы национальной безопасности Киссинджера, а также старших помощников госсекретаря и министра обороны. В документах указывалось, что прослушивающие устройства должны были быть установлены на домашних телефонах жертв, и в них были указаны имена технических специалистов ФБР, которые должны были установить прослушивающие устройства.
Мне потребовался день или два, чтобы разыскать нескольких установщиков и подтвердить, что документы были настоящими. Я знал, что должен был сделать это, прежде чем рассказать старшим редакторам Times о том, что у меня было. При Никсоне Киссинджер был главным по всем вопросам внешней политики, включая кризис, возникший в то время на Ближнем Востоке.
Сначала позвонили Киссинджеру. Немедленной реакцией было полное отрицание и гнев на обвинения в такой тактике полицейского государства. Затем последовал второй звонок, в котором говорилось, что ему надоело постоянно подвергаться клевете со стороны прессы, и он собирается уйти в отставку. Полчаса спустя Джеймс Рестон, известный всем как Скотти, — замечательный обозреватель Times, который был близок к Киссинджеру, хотя и осознавал его недостатки, — подошёл к моему столу в туфлях, похожих на тапочки, которые он иногда надевал в офисе, и спросил, понимаю ли я, что Генри серьёзно настроен уйти в отставку.
Скотти было невозможно не любить, но он явно не был уверен, что репортажи моего рода подходят для Times. Будучи евреем, я вызвался прошлой зимой поработать в вашингтонских бюро в двойную смену в канун Рождества, что обычно означало, что мне нужно было написать только прогноз погоды или что-то столь же тривиальное. Только я, хорошая книга и телетайпистка с утра до поздней ночи. В какой-то момент Скотти, одетый в чёрный галстук, со своей женой и видным вашингтонским дипломатом и его женой на буксире, ворвался в бюро. Я предполагаю, что винные магазины в городе были закрыты, и Скотти, который явно был немного навеселе, зашёл, чтобы забрать бутылку или две из своего офиса. Рестон очень холодно посмотрел на меня и сказал — я до сих пор смеюсь, вспоминая это — «Эй, Херш, разве ты не собираешься взять эксклюзивное интервью у Иисуса для второго выпуска?»
Возможно, вам нужно было присутствовать там, чтобы оценить историю, но Скотти был настоящим человеком. Он был там, где он был — как самый уважаемый обозреватель Times — потому что президенты и их приспешники знали, что на него можно положиться в том, что он передаст их точку зрения в кризисной ситуации. И я писал статьи, особенно о возможной связи Киссинджера с проступками Никсона, которые, по мнению Скотти, газете не нужно было публиковать.
Я пробормотал что-то Скотти — о том, что увольняется Киссинджер или нет, это не моё дело, — и продолжил отправлять статью в Нью-Йорк. Крайний срок для первой полосы был около 7 часов вечера, и примерно в это время мне позвонил Эл Хейг. «Сеймур», — сказал он, что привлекло моё внимание. Те, кто знал меня, включая Эла, называли меня Си. Он произнёс следующие слова, которые я никогда не забуду: «Верите ли вы, что Генри Киссинджер, еврейский беженец из Германии, потерявший тринадцать членов своей семьи из-за нацистов, мог бы прибегнуть к тактике полицейского государства, такой как прослушивание телефонных разговоров его собственных помощников? Если есть какие-то сомнения, вы обязаны ради себя, своих убеждений и своей нации дать нам один день, чтобы доказать, что ваша история неверна».
Конечно, я понимал, что Киссинджер умолял Хейга сделать этот глупый звонок, но он сделал это. История появилась на первой полосе на следующее утро, и Киссинджер выжил, как я и был уверен. Его нужно было поймать с ножом в руке, с которого капала кровь, а тело всё ещё дёргалось, чтобы когда-нибудь понести наказание за свои действия.
Но он действительно навредил карьере некоторых из тех, кто выполнял для него грязную работу внутри бюрократии, как я узнал через несколько месяцев после прихода в Times. Разразился скандал, связанный с четырехзвездным генералом ВВС по имени Джон Лавелл, который был публично уволен и понижен в должности после признания в том, что он тайно разрешил экипажам своих ВВС в Таиланде проводить бомбардировки несанкционированных целей в Северном Вьетнаме. Позор Лавелла стал достоянием общественности, что было необычно, и его нигде не могли найти.
На начальном этапе расследования тайны Лавелла мне позвонил Отис Пайк, демократ из Нью-Йорка, член Комитета Палаты представителей по вооружённым силам. Пайк был пилотом бомбардировщика Корпуса морской пехоты на Тихом океане во время Второй мировой войны, и он убедил меня вникнуть в эту историю. Он сказал мне, что не может сказать всего, что ему известно, но что я должен найти Лавелла и заставить его заговорить.
В течение многих лет, освещая Пентагон для Associated Press в середине 1960-х, я узнал о ценности телефонных справочников Пентагона. Я также знал, что Лавелл, который был назначен в Пентагон несколькими годами ранее в качестве генерала с двумя или тремя звёздами, несомненно, имел одного или двух очень способных капитанов ВВС в качестве своих личных помощников. Скорее всего, один из его талантливых помощников вернулся в Пентагон в звании майора или подполковника.
Конечно же, я нашёл человека, который жил в пригороде. В тот вечер я позвонил ему домой и не преминул сказать, кто я такой и чего хочу: выяснить, где живёт Лавелл и что, чёрт возьми, происходит. Он дал мне необходимую информацию. Я разыскал Лавелла на следующий день, когда он играл в гольф с двумя своими сыновьями на поле в сельской местности Мэриленда. Я всегда любил гольф, и я сыграл несколько партий с ним и мальчиками — репортёры сделают всё, чтобы заставить кого-то говорить. Лавелл, который ничего не знал обо мне, кроме того факта, что я могу сделать пять «утюгов», велел своим парням подождать в машине и проводил меня в бар в здании клуба.
Помню, было очень тепло, и у нас обоих были холодные бутылки Miller High Life. Я сделал глоток и попросил Лавелла рассказать мне, что, чёрт возьми, произошло. Он был хладнокровен, как и все летчики-истребители, и он сказал мне, что в течение шести месяцев или около того он действительно санкционировал бомбардировки на Севере, которые были запрещены. По его словам, он защитил своих заместителей, не сказав им, что у него не было на это специального разрешения из Вашингтона.
Я хорошо помню следующий обмен репликами. Я сказал: «Да ладно, генерал, если бы вы сделали то, что сказали, мы оба знаем, что вас отдали бы под трибунал». Лавелл холодно посмотрел на меня и сказал: «Скажите, когда в последний раз четырехзвездный генерал или адмирал военно-воздушных сил отдавался под трибунал?» Я не знал ответа.
В тот момент мне действительно начал нравиться этот парень. Я чувствовал — просто знал это, — что ему были даны закулисные приказы совершить незаконный взрыв, и что эти приказы должны были исходить от Киссинджера и Никсона. Я сказал ему об этом, но он ничего не ответил.
Я сказал генералу, что собираюсь доложить о его объяснениях, но предположил бы, что он взял вину на себя за Белый дом, потому что президент и его советник по национальной безопасности хотели расширить войну против Севера, не делая этого официально.
Что я и сделал. Я продолжал писать об ошибках Лавелла в Times в течение нескольких недель. В конце концов, состоялись слушания, организованные сенатором Джоном Стеннисом, консервативным демократом из Миссисипи, который был председателем Сенатского комитета по вооружённым силам. Стеннис был ястребом во время войны во Вьетнаме и фанатиком, когда дело касалось афроамериканцев, но он подозревал, что за позором Лавелла стоит Киссинджер, и был полностью за то, чтобы я делал всё, что мог. Мы с ним продолжали общаться — я мог связаться с ним в любое время по частной телефонной линии в его офисе — пока Никсон не покинул свой пост. Мы были ещё одной странной парой.
Я написал серию статей о Лавелле, которые были полны инсинуаций о том, что генерал сделал то, что он сделал для Киссинджера и Никсона, но генерал решил выполнить свои обязательства перед людьми в Белом доме. Десять лет спустя, когда записи Никсона и Киссинджера из Белого дома стали достоянием общественности — Лавелл умер в 1979 году, — между Никсоном и Киссинджером состоялось несколько бесед о тяжёлом положении Лавелла, когда в Times публиковались мои первые статьи о нём.
К его чести, Никсон чувствовал себя виноватым в том, что подверг генерала резкой критике, как я отметил в мемуарах, которые написал несколько лет назад. «Я не хочу, чтобы из него делали козла отпущения», — сказал он Киссинджеру. Несколько дней спустя, когда в газетах появились сообщения о возможных слушаниях в Сенате по поводу увольнения Лавелла, Никсон снова сказал Киссинджеру: «Я просто не считаю правильным, что его втянули его в это дело, а потом замарали». Киссинджер призвал его держаться подальше от этого. Никсон согласился сделать это, но снова сказал почти жалобно: «Я не хочу причинять боль невинному человеку».
Это было так, как если бы президент верил или предпочёл верить, что у него нет полномочий вмешиваться. В тот момент двуличия он был в руках Киссинджера.